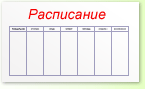05.11.2014
Когда заканчивался день и в нашем? военном госпитале были выполнены все дневные и вечерние назначения, я шла с последним обходом вместе с дежурным врачом, гасила в палатах свет и говорила: — Спокойной ночи! Обычно это означало: на сегодня всё. Но и я, и все мои палаты великолепно знали, что это не всё. «Спокойной ночью» заканчивалась обязательная официальная программа дня, предусмотренная госпитальным распорядком, а после «отбоя», как у нас называли традиционное «спокойной ночи» и гашение света, начиналась программа, правилами не предусмотренная, но без которой никто не засыпал. Были раненые, к которым надо было обязательно подойти хотя бы еще раз после отбоя. Палаты это знали и ждали. И не только те, к кому надо было подойти, но и те, к которым подходить было не обязательно, и эти последние в нелегальном обходе были особенно требовательны и строги. Дежурный врач уходил к себе, а я садилась к своему столу, чтобы дать отдых ногам и приготовиться к «своему» обходу. Мысленно я начинала с первой палаты, Царства доктора Ивановича, где лежали одни «лицевые ранения». Лице вые, конечно, уже спят, но туда, на свободное место и как в самую тихую палату, Положили майора-политрука с обожженными руками. Для него надо написать домой письмо, хоть коротенькое. Я представляю себе политрука, его тумбочку с книгами — он читает их днем, а «лицевые ранения» листают ему страницы. На тумбочке всегда горит лампочка-грибок, у него тепло и уютно, вдобавок там стоит единственное на первом посту большое мягкое кресло. «Нет,— думаю я,— к нему в последнюю очередь, всё равно он не спит...» Спящим политрука я действительно никогда не видела. Когда бы ни зайти, он встречает улыбкой. «Надо бы письмо домой написать,— скажу я после обычных приветствий, вопросов и ответов,— давно не писали...» «Что вы, какое письмо... Отдыхайте»,— бодро ответит политрук, а в грустных глазах мольба. Да, конечно, к нему в последнюю очередь. Сяду в кресло, напишу письмо, потом провалюсь немножко, в полусон, а он будет сторожить и делать вид, что ничего не замечает. Политрук не курит, а вот штурман Тихонов ни за что не уснет, пока не получит от меня папироску. Днем ему дают курить больные, а после отбоя — стало традицией — эту папироску ему даю я. — Закурим,— лихо шепчу я и беру с тумбочки приготовленную папироску и спички. Я должна закурить сама, затянуться, чтобы папироска разгорелась, закашляться и, сказав «Фу, гадость», сунуть папиросу Тихонову. Тогда он просияет, в полумраке блеснет веселыми глазами и затянется с аппетитом. Курит он быстро — чтобы меня не задерживать. Раз или два надо взять папироску и стряхнуть пепел. Потом он умостится как только можно удобнее со своими руками, уложенными в гипс,— и сразу засыпает. Архив
Когда заканчивался день и в нашем? военном госпитале были выполнены все дневные и вечерние назначения, я шла с последним обходом вместе с дежурным врачом, гасила в палатах свет и говорила: — Спокойной ночи! Обычно это означало: на сегодня всё. Но и я, и все мои палаты великолепно знали, что это не всё. «Спокойной ночью» заканчивалась обязательная официальная программа дня, предусмотренная госпитальным распорядком, а после «отбоя», как у нас называли традиционное «спокойной ночи» и гашение света, начиналась программа, правилами не предусмотренная, но без которой никто не засыпал. Были раненые, к которым надо было обязательно подойти хотя бы еще раз после отбоя. Палаты это знали и ждали. И не только те, к кому надо было подойти, но и те, к которым подходить было не обязательно, и эти последние в нелегальном обходе были особенно требовательны и строги. Дежурный врач уходил к себе, а я садилась к своему столу, чтобы дать отдых ногам и приготовиться к «своему» обходу. Мысленно я начинала с первой палаты, Царства доктора Ивановича, где лежали одни «лицевые ранения». Лице вые, конечно, уже спят, но туда, на свободное место и как в самую тихую палату, Положили майора-политрука с обожженными руками. Для него надо написать домой письмо, хоть коротенькое. Я представляю себе политрука, его тумбочку с книгами — он читает их днем, а «лицевые ранения» листают ему страницы. На тумбочке всегда горит лампочка-грибок, у него тепло и уютно, вдобавок там стоит единственное на первом посту большое мягкое кресло. «Нет,— думаю я,— к нему в последнюю очередь, всё равно он не спит...» Спящим политрука я действительно никогда не видела. Когда бы ни зайти, он встречает улыбкой. «Надо бы письмо домой написать,— скажу я после обычных приветствий, вопросов и ответов,— давно не писали...» «Что вы, какое письмо... Отдыхайте»,— бодро ответит политрук, а в грустных глазах мольба. Да, конечно, к нему в последнюю очередь. Сяду в кресло, напишу письмо, потом провалюсь немножко, в полусон, а он будет сторожить и делать вид, что ничего не замечает. Политрук не курит, а вот штурман Тихонов ни за что не уснет, пока не получит от меня папироску. Днем ему дают курить больные, а после отбоя — стало традицией — эту папироску ему даю я. — Закурим,— лихо шепчу я и беру с тумбочки приготовленную папироску и спички. Я должна закурить сама, затянуться, чтобы папироска разгорелась, закашляться и, сказав «Фу, гадость», сунуть папиросу Тихонову. Тогда он просияет, в полумраке блеснет веселыми глазами и затянется с аппетитом. Курит он быстро — чтобы меня не задерживать. Раз или два надо взять папироску и стряхнуть пепел. Потом он умостится как только можно удобнее со своими руками, уложенными в гипс,— и сразу засыпает. Архив